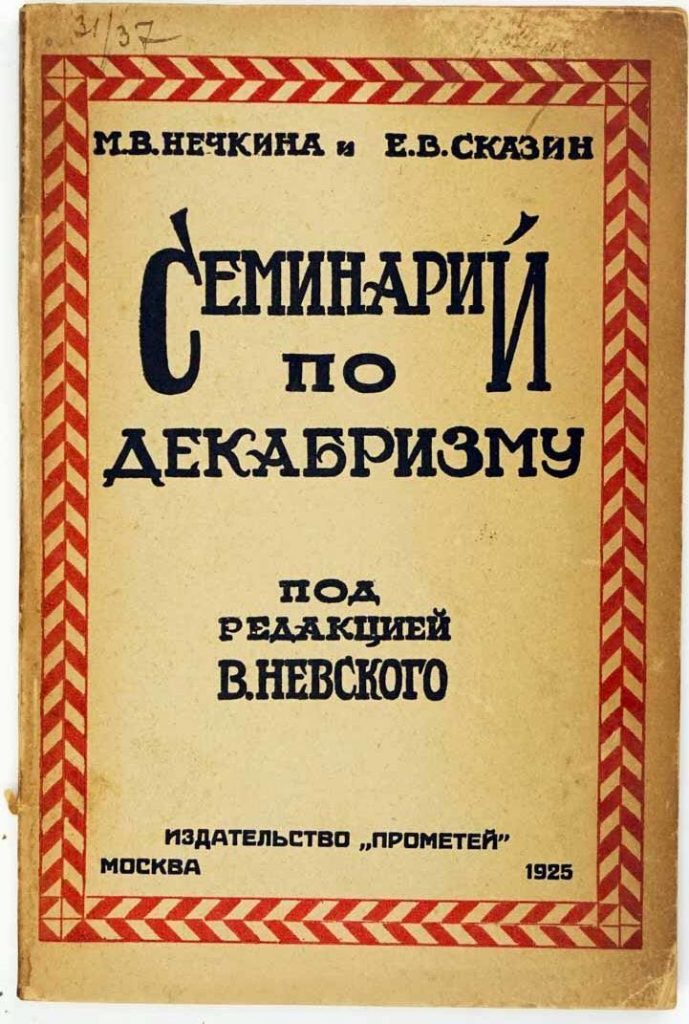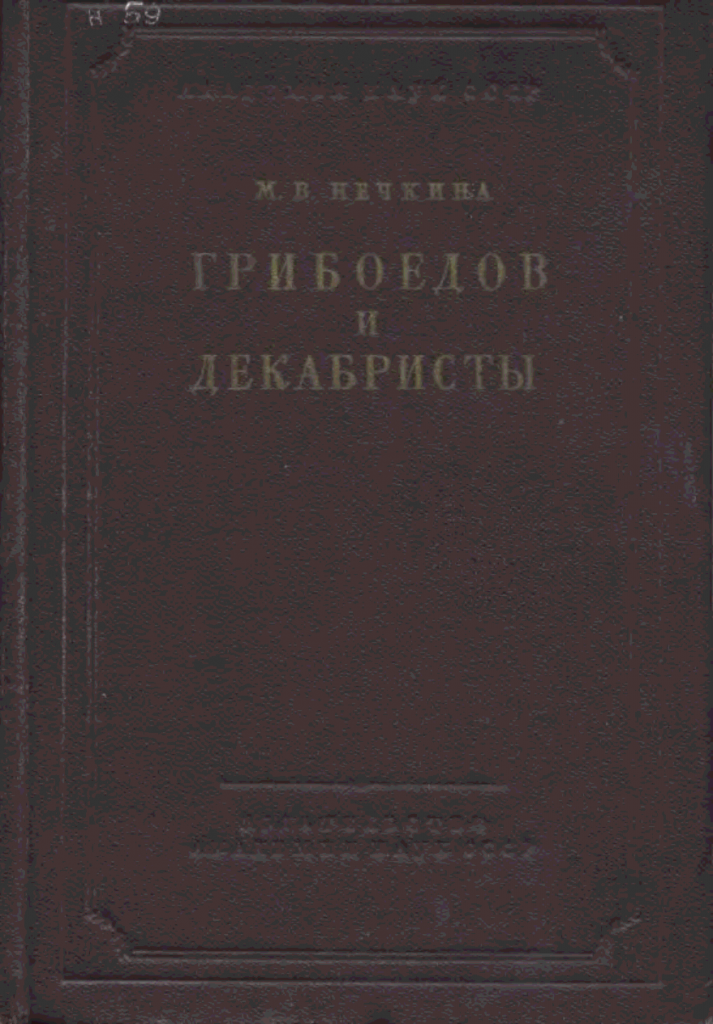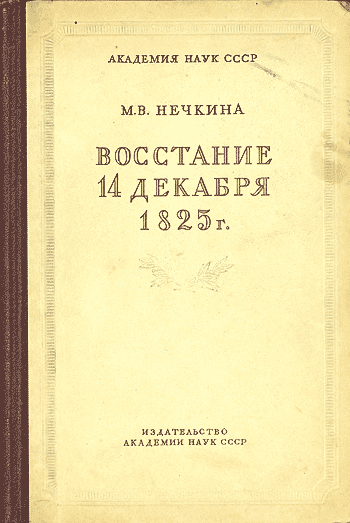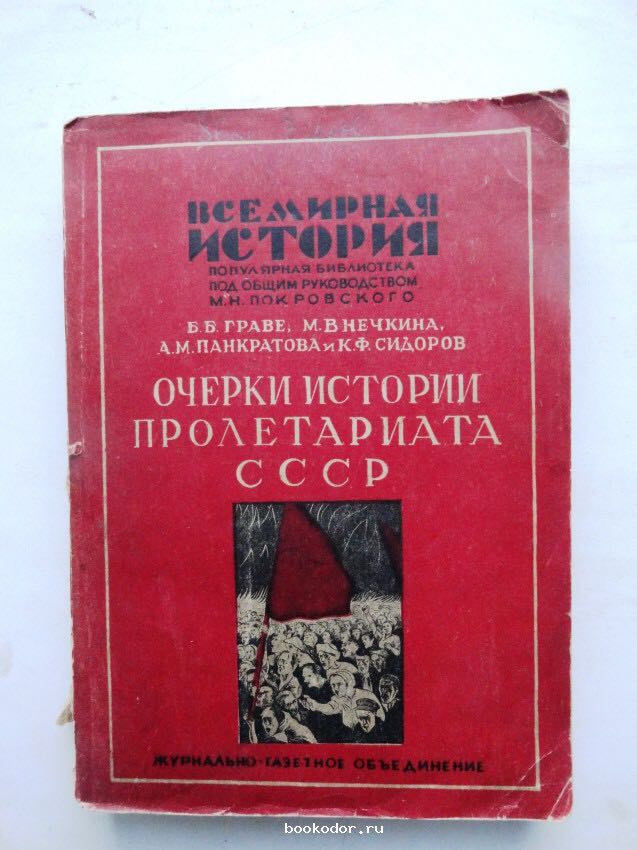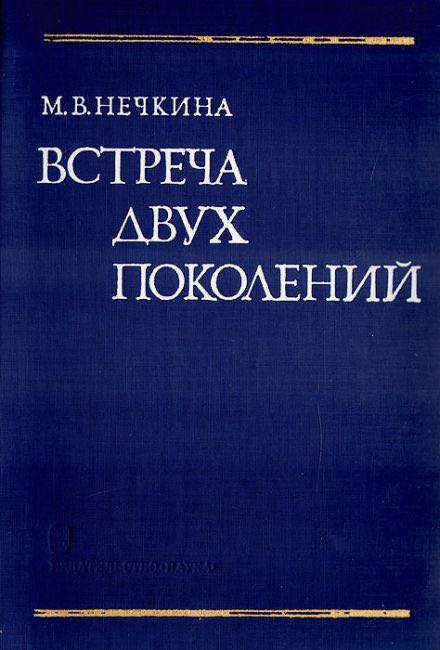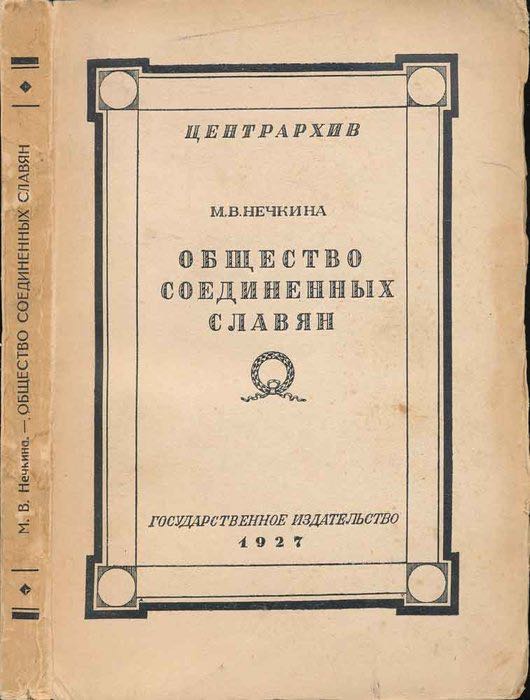Дневник Милицы Нечкиной
На этой неделе мы запускаем сразу две рубрики о том, как
живут и работают историки. Но если в «Блогах учёных» – начиная со вчерашней колонки Дмитрия
Беляева – тотальный present continious, то в
«Истории историка» – сюжетах, нарративах, эпизодах и, в
конечном итоге, «историях успеха» – царствует present
perfect.
За этим несколько выспренным сравнением мы
спрятали очень простую суть: наши представления о прошлом во многом
сформированы людьми, которые сейчас уже сами стали прошлым.
Академиками, писателями, архивистами,
литературоведами, лингвистами, археологами.
«История историка» –
тоже своего рода блогосфера, но эти блоги за выдающихся ученых прошлого (и
позапрошлого века) ведем мы, сотрудники журнала Proshloe.
И в первом выпуске –
дневники Милицы Нечкиной, первой женщины-историка-академика.

Милица Васильевна Нечкина – исследователь политической культуры XIX века, академик, своего рода «матриарх» советского декабристоведения. Часть исследовательских работ М.В. сейчас, конечно, можно с полным правом назвать коньюнктурными, но ключевые: «Грибоедов и декабристы» и двухтомник «Движение декабристов» – классика советской исторической науки (со знаком плюс).
Студенткой Милица Нечкина, конечно, не знала, что станет первой российской (точнее, советской) женщиной-историком-академиком. И что это ее дерзание само по себе окажется определенной вехой в гендерной истории советской науки – и одновременно ориентиром для сотен ее коллег. Тем интереснее заглянуть в юношеский дневник Милицы Васильевны; в этом дневнике: с одной стороны, действительно, удивительная работоспособность, а с другой – чего, казалось бы, могло и не быть – постоянная оглядка на пол, и принадлежность к своему полу всегда опережает «ученость». Да, она историк, но, в первую очередь, она женщина. И в этой самоидентификации – своего рода план, жизненная цель, который, разумеется, не был сформулирован буквально (не настолько Нечкина честолюбива): доказать, воодушевить, стать первой, но не единственной. А кроме того, это постоянные метания: чем заниматься, у кого учиться, какую выбрать специальность; первые научные достижения и первые разочарования (события нижеприведенных фрагментов дневника растянуты во времени на несколько лет).
Теперь я хочу писать совсем и другом. Надо немножечко пофилософствовать. За последнее время мне столько мыслей приходит в голову, а я их не записываю. Истина, что «женское сердце всегда ближе к женскому сердцу» пришла мне в голову очень давно. Теперь я хочу развить ее. Недавно я прочла у Белинского статью «Может ли женщина быть писательницей?» Он доказывает, что нет: я с ним не согласна. Конечно, я еще не изучала ни философии, ни психологии, ни логики, ни даже нашей литературы, но мне кажется, что и одним здравым смыслом можно доказать очень и очень многое.
Я буду разбирать все по порядку.
Во-первых: от кого зависит жизнь мужчины? От женщины. Подумайте сами — и вы согласитесь. Женщина даёт жизнь мужчине, всё свое детство он проводит под её надзором, от неё он получает и воспитание, т. е. и жизненное направление: ведь в детстве от воспитания, производимого женщиной, так сказать, от её влияния, полагаются в мужчине зачатки его взглядов, вкусов, развития. Кто, следовательно, направил мужчину, кто определил его жизненный путь? Женщина.
Потом мужчина вырастает, он уже идет по жизненному пути, указанному ему матерью. Кто встречается на его пути, от кого зависит его дальнейшая жизнь и состояние души? От женщины.
Место матери заступает жена. Разве счастье мужчины теперь зависит не от нее? Вы не верите? 3а примерами ходить недалеко. Они встречаются на каждом шагу. Мало у нас примеров несчастных браков?
Итак, жизнь мужчины зависит от женщины. А сможет ли он, без чего необходимо его личное счастье, понять женщину? Нет! Женщина же должна ввести мужчину в её мир. Женщина с искоркой, великой Божьей искоркой, понимающая и чуткая женщина должна показать мужчине подвиг матери, ее великую бескровную жертву, женщина должна заставить мужчину понять женщину, полюбить ее – полюбить не этой жалкой, животной любовью, полюбить не за красоту и грацию, а полюбить за ее душу, готовую всегда на великий подвиг любви и самоотречения. И не только полюбить женщину сознательно должна заставит Мужчин женщина-писательница – она должна его заставить уважать ее.
Вот почему я не согласна с Белинским. Женщина с искрой Божьей не должна её заглушать в себе, а, напротив, развивать её для счастья человечества.
С.63.
Вчера я читала доклад в Археологическом обществе. Было собрание в память Герцена, народу около ста человек, много профессоров и знакомых. Я читала не особенно долго, гладко и исполнила одну свою давнишнюю прихоть: у меня в руках не было ни плана, ни самого краткого конспекта, ни намёка на какую-нибудь записочку – просто встала перед публикой, взяла книгу Кирика Левина, о которой докладывала, и прочла доклад. Была я в осеннем пальто, которое ко мне идёт, и на лбу был очень красивый локон, конечно, случайно вышедший. Когда я поправляла перед зеркалом причёску, я очень обрадовалась, что он такой красивый. Никто не видел, в какой я была кофточке, но на мне была кофточка девятого марта — красная, с бархатными пуговками. Я немного волновалась. После доклада многие поздравляли с блестящим докладом, аудитория хлопала. Но я как-то смутно улавливала, что самое главное в моем докладе для присутствовавших – это моя молодость, необычность выступления «молоденькой барышни» в таком ученом обществе. На губах многих я ловила, может быть, ласковую, но все же улыбку. Адлер пожал мне руку и благодарил за доклад. Если бы я открыла в докладе самые неожиданные и блестящие истины, все-таки они отнеслись бы к ним с такой же улыбкой. А слова о «блестящем» докладе, наверно, комплименты «барышне».
Когда я возвращалась, было всё-таки радостно и как-то глупо, по-детски гордо.
Дома я почувствовала странное, забытое ощущение детских лет: если, бывало, долго и громко, захлёбываясь, плачешь о чем-нибудь и наконец успокоишься, то в теле разливается блаженная, дрожащая усталость, внутри становится легко, легко, ровно дышишь и изредка вдруг всхлипнешь, уже не плача, как будто откликнется эхо прошлых рыданий. Это точь-в-точь такое чувство было во мне поздно вечером после доклада.
(…)
И это всё-таки я прочла довольно длинный доклад, над которым довольно много работала и за который мне хлопали. А метод, тот метод, который я предлагала, филологический метод текстуальных сопоставлений, как глубоко я его ненавижу, как ясно чувствую, что он не доведет до истины. (…)
С.107
Нечкина порой довольно наивно пишет об академической номенклатуре, о «работе локтями», «идеологической борьбе», сведении личных счетов. Через каких-нибудь десять лет сама она — уже довольно известный историк — окажется на пороге лагеря или ссылки; ее московский учитель и наставник М.Н. Покровский предпочтет «утопить» «любимую ученицу» после критики в газете «Правда» (считай, официальной критики из Кремля)[1]. Он официально заявит, что Нечкина самовольно внесла его фамилию в состав редколлегии сборника, ославленного в «Правде» за «пещерный академизм». Для нашей героини это было чудовищное потрясение. Однако дело о разгроме ведущей на тот момент исторической школы — школы Покровского — было уже решено, и на «самом верху». От ареста и расстрела Покровского «спасла» неожиданная смерть, но вся эта история (конфликт с Покровским по инициативе последнего), возможно, спасла от репрессий будущего академика.
От меня бесконечно далёк университет. Боюсь сказать, но я не люблю его. Это не совсем точно, конечно. Я бесконечно люблю его старое здание, колонны, тёмные длинные коридоры, библиотеки и мелькающие за стеклами корешки книг, лестницы, Парменова и Тясю. Но я отношусь с холодной неприязнью к ф а к у л ь т е т у, к профессорам, к манере преподавания и общему его духу. Первое чувство, которое я испытываю при мысли обо всём этом, это чувство тяжелой скуки и презрения.
Особенно теперь, с лета. О, как это всё ничтожно, жалко и ложно, главное ложно. Безграничная радость научного творчества, ясное счастье познания и такое бесконечное богатство возможности в нашей науке, и вдруг… Историко-филологический факультет Казанского университета.
Это чувство окончательно определилось после того, как университет отверг сочинение Кругликова, и особенно вспыхнуло на днях, когда я узнала, что работа Дитякина о ломбардских городах «признана неудовлетворительной». К а с т а, м е р т в е ч и н а и л и ч н ы е с ч ё т ы.
Вспоминая прошлое, я опять думаю, что я всегда любила в университете именно коридоры, лестницы и библиотеки. Ещё, конечно. что-то вроде первой любви, благословившей первый курс.
Я совсем не хожу на лекции. Только изредка по четвергам заглядываю на практические занятия у Архангельского, где в большинстве случаев сижу безучастно, ожидая конца, чтобы можно было опять оказаться дома и, усевшись за мой письменный стол, перелететь во Флоренцию и беседовать с мастерами кватроченто. И нелепость связи моей с университетом такова, что я, живущая во Флоренции и Риме, должна… писать реферат об истории разработки русской летописи — от Шлёцера к Шахматову.
Стр. 118
А вот замечательный разговор с возлюбленным (но тоже, на беду, историком):
— Вова, если бы тебе предложили быть «Данте плюс Шекспир, умноженное на два», но за это всю жизнь не знать женщины, согласился бы ты? Даже глаза загорелись. «О, да, конечно!» В голосе ни тени колебания, только страстная тоска по невозможности ЭТОГО выбора.
— А если 6ы я была Исааком, ты Авраамом, а Бог высунулся из-за облака и спросил: «Вова, хочешь быть «Данте плюс Шекспир, умноженное на два»? Хочешь? Так зарежь ее».
— Нет, не согласился 6ы.
— А если бы выбор был между «Данте плюс Шекспир, умноженное на два», и твоей любовью ко мне? Если бы надо было не слышать, не видеть, уехать, всё разорвать со мною, но зато получить первое?
Немножко молчит.
— Ты не бойся, говори правду. Я все могу услышать.
— Согласился бы.
Мы оба молчали несколько секунд. Потом я сказала:
— Я рада, что ты так сказал. Я бесконечно уважаю тебя за правду. Но после всего этого мне будет легче уйти от тебя, чем прежде. По-моему, ты ещё не знаешь, что такое любовь. <…>
А на следующий день:
Люблю ударяться левым локтем. значит, Вова вспоминает.
С.126
… Я купила на свои деньги себе ботинки (…). Это все мои претворенные в советские бумажки лекции по искусству эпохи Возрождения. Рафаэль и Леонардо да Винчи сделались … ботинками и кочнами капусты, Я буду, вероятно, главным образом читать лекции. Потом, вероятно, в течение ближайшего месяца выяснится в ту или иную сторону вопрос об оставлении при университете. Совершенно не зависят от этого мои научные занятия. Как я счастлива сознать в себе эту зависимость. Я н е м о г у н е з а н и м а т ь с я. Ближайшие работы по русской истории — разработка и самая тщательная — темы «Ключевский как социолог», затем подготовка к печати моего медального сочинения, в нём будет много переделок. Затем буду работать над изучением опричнины, вероятно, она будет моей диссертацией. Затем подготовка и чтение курса социологии искусств, работы по искусству, одна из них «Фомин как портретист». Потом начну готовить к печати сборник своих стихов: Радимов говорит о6 этом при каждом свидании со мною. Потом… Господи, как хорошо, как много дела, у меня голова кругом идёт от счастья…
С.130
В этом мире есть два явления — чудесных, таинственных, захватывающих дыхание, прекрасных и влекущих: это наука и мужчина.
Говорю сейчас о науке не как о системе уже выработанных, добытых истин, а как о носительнице бесконечных возможностей. И о мужчине говорю так же.
И науку я люблю, как мужчину.
С.136
Цитаты из дневника Милицы Васильевны Нечкиной даны по
изданию: «…И мучилась, и
работала невероятно»: Дневники М.В. Нечкиной / Отв. ред. Е.И. Пивовар; сост.,
вступ. ст. и коммент. Е.Р. Курапова. М.: РГГУ, 2013. 824 с.
[1] Как «Записки декабриста Лорера» поссорили М. Н. Покровского и М. В. Нечкину : февраль-март 1932 г. // Исторический архив. 2008. N 4. С. 38-53