Отрывок из новой книги Джоэла Харрингтона
Что значило быть палачом в раннее Новое время? Это была позорная профессия: палачу был закрыт путь в приличные дома, а респектабельный гражданин мог очень сильно испортить себе репутацию, окажись он в обществе палача. Франц Шмидт, нюрнбергский палач, посвятил всю жизнь изменению этого положения – уже после отхода от дел он отправил императору Священной Римской империи письмо с просьбой о восстановлении доброго имени. И это была обоснованная просьба: Майстер Франц оставил после себя подробный дневник, в котором фиксировал каждую проведённую казнь, своеобразный отчёт о добросовестной многолетней работе, – и это очень яркий памятник эпохи, с которым бережно работает Джоэл Харрингтон в мартовской новинке издательства «Альпина нон-фикшн».
Мы публикуем фрагмент из книги под названием «Доброе имя», в котором автор рассказывает, из каких составляющих складывалась репутация человека в раннее Новое время, насколько легко было её изменить и что роднит размышления Майстера Франца с современным взглядом на идентичность личности.
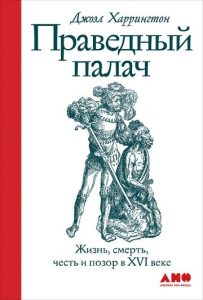
Название: Праведный палач. Жизнь, смерть, честь и позор в XVI веке
Автор: Джоэл Харрингтон
Переводчик: Тимофей Раков
Издательство: Альпина нон-фикшн
Год издания: 2020
Двадцатичетырехлетний Франц Шмидт вступил в нюрнбергское общество как неженатый чужеземец, занятый позорной профессией. Сказать, что ему пришлось пережить нечто большее, нежели простое недоверие старожилов к чужаку, — это не сказать ничего. Даже обзаведясь молодой женой и став узнаваемым, Франц понимал, что для того, чтобы быть принятым гражданами и правителями Нюрнберга, он должен не только соответствовать их стандартам приличия, но и найти дополнительные способы формализовать и тем самым закрепить свой статус почтенного человека. «В обществе, основанном на чести, — замечает историк права Уильям Миллер, — не существует самоуважения вне зависимости от уважения других», а значит, всякий личный контакт чреват опасностью утраты чести[30]. Вероятно, Франц и не планировал до конца избавиться от враждебности местных жителей к профессиональному убийце из других краев, но по крайней мере он чувствовал в себе силы переломить сопротивление, смыть пятно отцовского позора и, что самое важное, не дать своим противникам поводов столкнуть его на дно общества. Эта кампания обещала быть долгой и требовала недюжинного терпения и настойчивости. Молодой палач из Хофа должен был вести себя взвешенно и обстоятельно — так же как и наносил удары мечом на Вороновом Камне.
Тщательно планируемое Майстером Францем создание собственной репутации одновременно и поддерживало, и отрицало существующий общественный строй. Шмидт не был мятежником; его видение самого себя оставалось в довольно узких рамках окружавших его условностей. Тем не менее дневник показывает, что, как и многие амбициозные люди, он обладал социальным воображением, позволяющим адаптировать эти условности к своим уникальным обстоятельствам. Репутация большинства людей той эпохи неразрывно связана с их идентичностью, основная часть которой, включая место рождения и социальный статус, была ими унаследована. Для Франца Шмидта важность идентичности была неоспорима, но вовсе не рождение, а характер и поступки — два фактора, которые он сам мог контролировать, — определяли его репутацию. Это резкое отличие, хотя и не всеми признаваемое, по крайней мере давало молодому иноземному палачу шанс в борьбе.

Джоэл Харрингтон – историк, профессор в Университете Вандербильда, специалист по Реформации и истории Германии в раннее Новое время.
Первым препятствием на пути Франца был его статус чужака. Конкретное место рождения — город или деревня — составляло важную часть личности человека раннего Нового времени. Это действительно имело смысл в эпоху, когда путешествия были медленными, обычаи разнились от региона к региону и десятки диалектов цвели пышным цветом в границах того, что мы называем сейчас Германией. Многие из них были непонятны даже тем, кто пришел с расстояния всего нескольких дней пути. В своем дневнике Франц с самого начала последовательно идентифицирует каждого преступника по его или ее родной деревне или городу — например, «из Бюрга» или «из Ансбаха». Сам он был хорошо известен в Нюрнберге как палач «из Хофа» или «из Бамберга» (хотя в последнем он жил совсем недолго). Человек, которого нельзя было достоверно связать с какой-то местностью, не только плохо запоминался, но и сразу подпадал под подозрения. Хотя Франц в своем дневнике иногда забывал или путал имена собственные, он всегда записывал родной город человека, за исключением нескольких случаев, когда речь шла о бродячих проститутках.

Франц также сознавал, что географическое происхождение всегда носило и политический характер, подразделяя людей на уроженцев Нюрнберга или его окрестностей и «иноземцев», родившихся где-либо еще, независимо от расстояния, языка или последнего места жительства. Например, пастух Хайнц Нойнер, работавший гончаром в пригороде Нюрнберга Гостенхофе, оставался подданным соседнего маркграфства Ансбаха, а значит, был таким же чужеземцем, как и «Штефан Ребвеллер из Маршталя в Савойе» и «Генрих Хаусман из Калька, что 14 милями ниже Кёльна»[31]. Франц непременно упоминает — 45 раз в 778 записях, — если человек не только происходит из Нюрнберга, но и является его гражданином, имея особый правовой статус, предоставляемый лишь определенным жителям. Гражданство сулило целый ряд прерогатив, в частности право на казнь посредством меча за совершение тяжких преступлений, как в случае мошенника Габриэля Вольфа, или даже на смягчение телесных наказаний, как это было с нюрнбергским мошенником Эндресом Петри или кровосмесительницей Барбарой Гриммин (она же Шори Мори)[32]. Гражданка Маргарита Бекин, осужденная за особо вероломное убийство, наслаждалась привилегией быть обезглавленной стоя, при том что она была уже «трижды рвана докрасна раскаленными щипцами, а потом ее [отрубленную] голову прикрепили повыше на шесте, а тело похоронили под виселицей»[33].
Конечно, такая оживленная метрополия, как Нюрнберг, была заполнена переселенцами, некоторые из которых проживали здесь десятилетиями. Сама по себе такая идентичность не была обременительной, особенно для выходцев из низших слоев общества. Но усугубляла ли аура чужеземца изоляцию Франца? Что он считал своим домом? Мы не знаем ответов на эти вопросы. «Молодой палач из Хофа» уже много лет не жил в своем родном городе и не проявлял ни малейших колебаний, наказывая злоумышленников из Хофа, некоторых из которых, возможно, даже знал лично. Но точно так же он не выражал никакой привязанности к городу на Пегнице, где служил теперь[34]. Лишь проработав десять лет в Нюрнберге, он начинает употреблять такие выражения, как «наш город» или «убийство сына одного из наших граждан», и даже после того, как стало очевидно, что его оставляют в городе на всю жизнь, подобные признаки верноподданичества довольно редки в его дневнике[35]. Превращение «палача из Хофа» во «Франца Шмидта из Нюрнберга» потребовало немало времени, терпения и более ощутимых признаков взаимного признания в его отношениях с отцами города.
Социальное положение, основанное на семейной и профессиональной преемственности, очевидно, осознавалось молодым подмастерьем как значительная проблема. Здесь интерпретация Францем понятий чести и статуса выглядит одновременно близкой и чуждой современным представлениям. Хотя сам он является жертвой приказа своенравного маркграфа, перевернувшего жизнь его семьи, тем не менее Франц не только принимает идею привилегий высшего сословия, но и глубоко верит в ее святость. Он постоянно пишет о своих превосходящих его в социальном отношении начальниках с благоговением, которое обнаруживает нечто большее, нежели простую привычку или предосторожность человека, понимающего, что его слова могут быть прочтены нанимателями. Когда Франц описывает случаи, в которых преступник из низшего класса вредит патрицию или человеку знатного происхождения, он часто кажется столь же оскорбленным этим наглым нарушением сословных границ, сколь и самим преступлением. Например, он заметно возмущен тем, что виртуозный мошенник Габриэль Вольф имеет наглость обманывать богатых и высокородных жителей Нюрнберга и других городов[36]. В другой записи он просто кипит от негодования, описывая убийцу «дворянина и солдата Альберния фон Визенштайна» такими словами: «Доминик Корн, отпрыск горожанина, наемник, сын шлюхи и трактирщика»[37].
Многим из нас, живущим в эпоху после Великой французской революции, трудно понять ту, по всей видимости, глубокую веру Майстера Франца во врожденное превосходство богатых и знатных людей.
Наша современная культура зависти предполагает, что унаследованные богатства и привилегии других могут возмущать или быть желанны, но, конечно, никак не уважаемы за предопределенность их Богом. Однако для Шмидта и его современников иерархия, основанная на происхождении, воспринималась как естественная сила, подобно погоде или чуме, — капризная, даже разрушительная, но неизбежная.
Неудивительно, что Майстер Франц разделял этот статус-кво. В конце концов, он служил одним из ключевых хранителей такого стратифицированного общества и полагал, что ему хватит ума и решимости достичь своих социальных целей в его пределах. Цена этого была не так уж мала: молодой палач ежедневно страдал от напоминаний о его низком статусе. Диапазон их колебался от случайно проявленной пренебрежительности или завуалированных оскорблений до официального отлучения от всех праздников, танцев, процессий и других публичных собраний, за исключением тех, что были непосредственно связаны с его сомнительной профессией. Люди, с которыми он работал в рамках уголовных дел, — городской врач, члены магистрата, ведущие следствие, судебный нотариус — не могли открыто общаться с ним на улице или выказывать какие-либо другие признаки социальной близости. Эти и другие унижения Майстеру Францу необходимо было просто перетерпеть, и он, вероятно, относился к ним как к неизбежной участи своего специфичного общественного положения. Испытывал ли он при этом гнев, стыд или отчаяние — известно только ему одному.
Драматичный инцидент, случившийся позже в карьере Франца, показывает глубину его врожденного уважения к власти и высокому происхождению. В декабре 1605 года благородный тайный советник доктор Никлаус фон Гюльхен (записанный Францем в дневник как Гильген) был осужден за мошенничество и обман многих известных нюрнбержцев и самого города, что стало самым громким правительственным скандалом за предшествующие сто лет. Несмотря на то что Гюльхен был приговорен к смерти, он получил все привилегии первоклассной казни: удобную камеру в башне Лугинсланд, а не в Яме, специальное питание, освобождение от пыток во время допроса (благородное право non torquendo), достойную смерть от меча и погребение на его семейном участке кладбища Святого Иоанна[38]. Глубокое отвращение Франца просто бурлит в длинном отрывке, посвященном различным злодеяниям Гюльхена, в том числе нарушению его клятвы тайного советника, консультированию противостоящих сторон во многих делах, хищениям из городской казны, разбазариванию муниципальных запасов пива и вина, пяти детям, рожденным от него служанкой его жены, изнасилованию его собственной служанки, попытке изнасилования одной невестки и подкупа другой, чтобы вступить с той в длительную связь, обману многих патрицианских и знатных семей и выдаче себя за доктора с помощью фальшивой печати. Как и в случае с прирожденным мошенником Габриэлем Вольфом, Гюльхен с легкостью злоупотребил своим привилегированным положением и опозорил честь семьи, что особенно возмутило нюрнбергского палача, видевшего в этом особое кощунство. И все же магия высокородства возобладала и здесь. Майстер Франц лично отправляется в камеру к осужденному дворянину, чтобы обсудить с ним выбор подобающего для казни гардероба. Правда, в конце концов терпению начальников Шмидта пришел конец и они выдали Гюльхену длинный траурный плащ и шляпу из муниципальной оружейной. Во время публичного шествия к «креслу правосудия» приговоренный с королевским апломбом начищал эту шляпу, будучи сам драпирован изящным черным шелком[39].

Всем остальным, не входившим в число аристократии и знати, Франц Шмидт отказывал в прямой зависимости репутации от социального статуса. Особенно настороженно он относился к попыткам ремесленных гильдий укреплять свое влияние за счет поношения людей, занятых в позорных профессиях или вообще их не имеющих. С самого начала Франц хорошо понимал, что обучение так называемому почтенному ремеслу и занятость в нем сами по себе еще не делали человека почтенным. Поэтому, хотя он и принимал бытовавшую систему идентификации, согласно которой каждый преступник в его дневнике обозначен по профессии — «скорняк», «крестьянин» или «волочильщик проволоки», — он никогда не заявляет в отношении ремесел или гильдий, что они почтенны. Само это слово, «почтенный», употребляется им только в отношении знати или патрициев, а его антоним «бесчестный» в дневнике и вовсе отсутствует. Для Франца ремесло, подобно месту рождения или имени, служило лишь нейтральным способом обозначения человека в системе координат. Формальная идентичность такого рода не является для него характеристикой личности, хорошей или плохой, так что даже при описании, скажем, серийного убийцы Никеля Швагера он использует лаконичное «каменщик»[40].
Различение Францем социального статуса и репутации часто проявляется в том, как он сочетает профессиональную и преступную идентичности людей, когда, например, пишет о человеке так: «лавочник и убийца», «кавалерист… и вор», «коробейник и вор» или, более впечатляющее, «кровельщик… вор и плут в играх, который также взял трех жен». Эта тенденция становится особенно заметной в первые годы жизни Франца в Нюрнберге, хотя иногда он бывал непоследователен, например когда идентифицировал Георга Гетца как «[городского] стрелка, вора и блудника», а позднее просто как «стрелка» — упущение вполне понятное, учитывая спонтанную природу ведения им дневника[41]. (Ведь маловероятно, чтобы Гетц, в итоге обезглавленный, умерил свою охочесть до воровства и распутных женщин за время между первым и вторым вынесенными ему приговорами.) Растущее предпочтение Франца к сложным характеристикам — «Михель Гемперляйн, мясник, наемник, убийца, грабитель и вор» — также свидетельствует об осознании взрослеющим палачом того, что старый порядок идентификации посредством одного лишь ремесла не имеет смысла для составления морального портрета[42].
Те немногие случаи, когда Франц описывает преступников исключительно с точки зрения их преступлений, еще больше раскрывают его собственные взгляды на этику и характер: «убивица детей» (детоубийство), «поджигатель» или «еретик» (для случаев инцеста и скотоложства). В отличие от простого блуда или даже убийства, преступления такого рода полностью затмевают собой все другие аспекты личности индивида в сознании палача. Таким же образом лица, ставшие профессиональными преступниками, иногда определяются им исключительно по избранной профессии — «вором» или «разбойником», что вряд ли можно назвать ценностно-нейтральными выражениями.
Нежелание Франца ассоциировать социальный статус и репутацию, очевидно, во многом было связано с его собственной ситуацией. Даже само обращение «Майстер Франц» способно было унизить Шмидта в глазах других до уровня его одиозного ремесла. Однако в целом имя че-овека мало что может сказать о его личности, не говоря уже о репутации. Имена знати и патрициев, конечно, были, как правило, самоочевидными, особенно когда в дневнике они сопровождаются такими выразительными дополнениями, как «благородный» или «Его Превосходительство». Еврейские имена также было легко идентифицировать, поскольку обычно они включали имена на иврите (например, Моше или Моисей) и фамилии, данные в качестве ярлыка (такие как Юдт, то есть «еврей»). В других случаях имена сами по себе мало что способны были сказать. Протестантская женщина получала имя в честь Девы Марии или католической святой, башмачник носил фамилию Фишер (с немецкого буквально — «рыбак»), а Франкфуртеры были семьей нюрнбергских старожилов. Очевидно, что в реальной жизни в зависимости от места одни фамилии могли имели больший вес, чем другие, но даже фамилии многих нюрнбергских патрициев всплывали в списках бедноты и в судебных отчетах.
Единственным исключением из этой неопределенности служили клички или псевдонимы. Не каждый, у кого они были, непременно занимался темными делами, но практически все люди с сомнительной репутацией имели по крайней мере одну альтернативную идентичность. Почти все малолетние воры, с которыми сталкивался Майстер Франц, став профессиональными преступниками, приобретали броские уличные имена: Ганс Лягушка, Черный Пекарь, Красный Ленни, Живчик, Крюк, Пройдоха. Популярные прозвища могли быть основаны на профессиях (Лавочник, Каменщик, Пекаренок), географии происхождения (Швейцарец, Кунц-из-Поммельсбрунна), предпочтениях в одежде (Зеленый Колпак, Кавалер Ганс, Георг Перчатка), или их сочетаниях (Лодырь-Башмачник, Лесник-из-Лауфа, Чернявый-из- Байерсдорфа). Они могли быть комичными (Куриная Ляжка, Кролик, Улитка), снисходительными (Болтун, Барт Заика, Парнишка) или даже оскорбительными (Клоп-Вонючка, Вороний Корм). В ту несомненно менее толерантную эпоху многие клички часто фокусировались на внешности человека — Остроголовый, Долговязый Кирпичник, Красный Петер, Тощий Георг, Толстячок — или на моментах личной гигиены, например Грязнуля[43]. Кличка также могла обыгрывать данное при рождении имя, как это было в случае с Катериной Швертцин (от немецкого «черная»), которая была известна под кличкой Угольщица[44]. Но независимо от своей этимологии прозвища служили исключительно практической цели: они позволяли избежать путаницы в обществе, которое полагалось всего на несколько имен (в особенности на имя Ганс).
Для опытного нюрнбергского палача само наличие прозвища часто указывало на связь с «развязным обществом», если не с преступным миром. Не так выраженно, но для большинства современников клички несли на себе социальную стигму — в зависимости, конечно, от своего содержания. По понятным причинам люди настороженно относились к таким подчеркнуто агрессивным прозвищам, как Ганс Наемник или Ножны, и начинали беспокоиться за свой кошелек, когда их представляли Хитряге-Кожевнику или Восьми Пальцам. Для женщин число возможных социальных или рабочих ролей резко снижалось, как только их прозвищами становились Игривая Киска, Пушистая Катрин, Шлифовалка или, что еще хуже, Дырка Анни[45]. Без сомнения, Майстер Франц знал о нескольких нелестных или по меньшей мере оскорбительных прозвищах и для самого себя, но он не решился сохранить их для потомков.

Независимо от обстоятельств рождения, профессии или псевдонима все современники Франца Шмидта согласились бы с тем, что самым надежным показателем репутации была компания, с которой человек водился. Это играло на руку нюрнбергскому палачу, который не мог выбрать себе происхождение или даже коллег, но мог выбирать друзей. Однако кто составил бы этот близкий круг, учитывая широко распространенные социальные ограничения, с которыми он все еще сталкивался? И где бы они встречались? Самые популярные места мужского общения — таверны, — как правило, не привечали палачей, особенно непьющих и избегавших азартных игр. Общественные праздники, свадебные торжества и подобные мероприятия оставались для него закрытыми, так же как и дома образованных коллег или знакомых, которые рисковали потерять свою репутацию, стань известно об их связи с палачом. Учитывая долгое пребывание в должности, Франц явно успел наладить по крайней мере теплые рабочие отношения с некоторыми городскими советниками, юристами, врачами и аптекарями. Он также поддерживал переписку и, возможно, дружбу с другими палачами своего региона[46]. Его отношения с тюремными капелланами, напротив, похоже, не были особенно близкими: в своих дневниках магистр Хагендорн и магистр Мюллер редко называют его по имени, чаще употребляя «палач» или «вешатель». Сам Шмидт так же довольно безлично пишет о священниках. Кто бы ни был ближайшим товарищем Франца, — а нам только остается надеяться, что ему были известны радости дружбы, — наверняка он встречался с ним в стенах своего дома; хотя опасность быть замеченным там тоже представляла некоторый репутационный риск для посетителя.
Просто избегать плохой компании было куда более легким делом, в котором молодой Шмидт изрядно поднаторел. Благодаря усилиям своего Льва, Франц имел минимальный прямой контакт с городскими стрелками и представителями других правоохранительных органов нижнего уровня, поэтому он избежал народной неприязни, вызванной их коррумпированностью и просто ленью. Новый палач без раздумий «воспитывал» при помощи порки или даже казни побиравшихся приставов и городских стрелков, сходившихся с проститутками или насиловавших молодых девушек, находившихся в их власти[47]. Он бесстрастно пишет о произведенной им за воровство и убийства казни четырех бывших коллег, включая живодера Ганса Хаммера (известного также как Булыжник, или Башмачник Младший) и стрелка Карла Райнхардта (известного как Холстина), который «и здесь, и в других местах воровал у палачей и их помощников, а также на живодерне, где он поселился». Учитывая бесчестие, которое такие люди навлекали косвенным образом на его профессию, стремление Франца дистанцироваться понятно. Что характерно, он не пытается убедить себя в том, что эти негодяи — исключения среди своих коллег, а, напротив, с удивлением пишет о бывшем приставе, признанном виновным в убийстве, который в других отношениях поразил его как «респектабельный человек», и что приговор ему был смягчен с колесования до обезглавливания[48].
В мужской среде близость к дурной компании могла пониматься довольно широко, но обычно под ней подразумевалось общение или даже дела с профессиональными преступниками. Уже одна только связь с известными лицами, объявленными вне закона, сама по себе могла в некоторых серьезных случаях служить достаточным основанием для пыток. Установленное членство в крупной банде разбойников оказывалось, конечно, еще более гибельным, так что Майстеру Францу понадобилось всего несколько слов, чтобы передать дурную славу Иоахима Вальдта (известного как Наставник), который «часто, безжалостно и много крал и врывался [в дома] с почти 30 подельниками», или Гензы Вальтера (называемого также Сырорезом), который действовал вместе с «14 своими подельниками и двумя шлюхами». Чаще всего Шмидт просто отмечает, что у осужденного грабителя «было много подельников», одним махом присваивая человеку дурную репутацию «негодяя», заслуживающего казни[49].
Чрезмерное пьянство, любовь к азартным играм, драчливость и сношения с проститутками также являлись составляющими плохой мужской репутации, равно как и просто «бесстыжий и паршивый язык»[50]. Однако, учитывая распространенность такого поведения, оно указывает лишь на склонность к преступности, но отнюдь не является доказательством. Поэтому Франц использовал подобные детали для создания определенного контекста, а иногда и просто сваливал их в кучу, чтобы подчеркнуть дурной характер и заслуженность наказания человека, которого только что казнил. Ганс Герштакер (по кличке Красный) «много крал [и] также избил женщину во время ссоры». Изготовитель сумок и сборщик податей Андреас Вайр был справедливо «выпорот, потому как предавался разврату с тремя пошлыми шлюхами; он был уже женат; а еще присвоил подати»[51].
Того же общепринятого мнения палач придерживался и в вопросах женской репутации. Как и мужчины, многие женщины, наказанные или казненные Францем, были опорочены связью с известными преступниками, часто выступая в роли их спутниц и жен. Если устанавливали прямое соучастие в краже или убийстве, приговор мог быть весьма и весьма суровым, начиная с отрубания пальцев и заканчивая утоплением, как в случае с Маргаритой Хернляйн. Она являлась «соучастницей убийства новорожденных детей, которые были убиты в ее доме, и предоставляла убийцам и ворам пропитание, дабы они ни о чем не донесли». Франц рассматривал женщин, избравших подобный образ жизни, как уже погруженных в это обособленное теневое общество, состоящее из воров, грабителей и убийц. Марию Кантерин уже несколько раз пороли и обезображивали за то, что она была любовницей двух казненных разбойников, «Красавчика» и «Георга-Перчатки», к тому моменту, когда вместе с новым ее партнером, «Байройтским Школяром», она была казнена за кражи[52].

Тем не менее независимо от уровня вовлечённости в преступную деятельность женщина с дурной репутацией определялась главным образом девиантностью сексуального поведения. Одним словом, Франц и его современники могли изменить репутацию любой женщины, просто подозревая ее в распущенности, и это работало куда эффективнее, нежели клеймо «проказника» или «развратника», поставленное на мужчине. Профессиональные проститутки, «солдатские жены» и другие «свободные женщины» (многие из которых являлись жертвами изнасилования или инцеста) регулярно возникают в дневнике палача, каждую из которых он именует «грязной уличной шлюхой», «шлюхой-воровкой» или просто «шлюхой»[53]. Подобно мужчинам, которые избивали своих матерей или поносили свое начальство, женщины, предположительно спавшие со всеми подряд, автоматически подозревались в совершении еще более тяжких преступлений. Иногда мы встречаем составные обозначения в дневнике Франца — «три дочери горожан и шлюхи», «дочь паяльщика и шлюха», «повариха и шлюха», даже «жена стрелка и шлюха», но чаще такие женщины утрачивают в памяти палача любые другие идентичности, включая даже сами имена[54].
Озабоченность Реформации сексуальными отклонениями делала всех женщин — и замужних, и незамужних, и овдовевших — все более уязвимыми для обвинений в распущенности, имевших разрушительные последствия. В наихудших сценариях это служило одним из ключевых доказательных факторов в делах о колдовстве и детоубийстве — двух основных причинах казни женщин в раннее Новое время.
Чаще всего любая обнаруженная внебрачная активность женщины приводила к ее порке и изгнанию, а в нескольких редких случаях, обычно усугубляемых воровством, — к казни. В то время как женщины в целом составляли лишь 10 процентов лиц, казненных Францем за всю его карьеру, на их долю приходилось 80 процентов всех, кого он заковывал в колодки, а затем «с поркой изгонял из города» за сексуальные преступления[55].
Франц хорошо осознавал наличие двойных стандартов для мужчин и женщин, отмечая в дневнике, что мужчины, осужденные за сексуальные проступки, получали меньшие наказания, нежели женщины, в том числе и за инцест[56]. И все же, кажется, его более забавляют, чем вызывают сочувствие цитируемые им строки, которые нацарапал на церковной стене обезумевший муж женщины, казненной за «разврат и распутство… с 21 женатым мужчиной и юношами», включая родного отца и сына: «Отец с сыном должны быть наказаны, как и она, и сводники тоже. И в ином мире я буду взывать и молить императора и короля, потому как нет справедливости. Я, человек, страдаю, хоть и невиновен. Прощайте, и спокойной ночи!»[57]. Для нюрнбергского палача каждый является продуктом его поступков, и если они включают в себя «потерю чести [то есть девственности] с наемником пять лет назад» и «троих ублюдков», то перед ним, несомненно, «шлюха»[58].
Но особенно удивительным для того времени (и для благочестивого лютеранского палача) является то, что момент религиозной идентичности оставался абсолютно нейтральным фактором при оценке Францем Шмидтом личной репутации и характера. Он не проявляет открытой враждебности по отношению к католикам, которых казнил (и которых он никогда не называл папистами), отмечая лишь особые молитвы или просьбу о причастии на эшафоте[59]. Ганс Шренкер (он же Лодырь) нахально пытался использовать свою католическую веру в качестве основания для отсрочки казни, прося на эшафоте разрешения на «паломничество… к своему духовнику, после чего он вернулся бы (его просьбу отклонили)». Редко используемые Шмидтом слова «еретик» и «безбожник» относятся к конкретным поступкам осужденного, а не к его или ее религиозному вероисповеданию[60].
Даже евреи, которые в Хофе на протяжении всей юности Франца каждую Страстную пятницу подвергались ритуальному унижению и которым было официально запрещено находиться в Нюрнберге с 1498 года, чаще упоминаются в дневнике с сочувствием, как жертвы казненных воров или грабителей, нежели как преступники[61]. Когда Майстеру Францу было приказано публично задушить (из милости) шпиона и вора Моисея, еврея из Отенфосса, Шмидт педантично отмечает, что «прошло 54 года с тех пор, как казнили еврея (по имени Амбзель)». Нет никаких упоминаний о выдвигаемых современными антисемитами обвинениях в «загрязнении крови» или о возможности какого-либо более серьезного, чем порка, наказания для Гая Юда, осужденного за то, что он «гонялся за христианскими женщинами и хватал их сзади, в своем распутном намерении изнасиловать, и все время принуждал их из наглости, чтобы они удовлетворяли его природу». Юлий Кунрад — обратившийся в христианство еврей, имевший нескольких влиятельных покровителей, включая епископа Вюрцбургского, — также получил стандартную порку и изгнание за двоеженство и внебрачные связи, хотя у него был еще и внебрачный ребенок с «обычной шлюхой [христианкой] … до его крещения». Когда позднее в том же году (теперь он называл себя Кунрадом из Райхензаксена) его казнили за ограбление, многочисленные кражи и убийство, Шмидт не комментирует его религиозную принадлежность, за исключением того, что на эшафоте он «не принял [лютеранского] причастия и желал [совершить его] в католическом духе»[62].
Шаг за шагом создавая себе доброе имя, Франц Шмидт был особо чувствителен к злоупотреблениям репутацией. Заметно его негодование по поводу людей, которые просто присваивали себе чужое имя или социальный статус — дело нехитрое в эпоху, когда еще не существовало стандартных средств проверки личности[63]. То, что мы сейчас называем «самоформированием», и то, что юристы называют «незаконным присвоением чужого имени», серьезно тревожило городского палача Нюрнберга. Он был разочарован, когда Линхард Дишингер, который с «поддельными письмами и печатями [выдавал себя за] переехавшего учителя или священника», сбежал, отделавшись легкой поркой; зато вполне удовлетворен тем, что Кунрад Крафт, совершивший множество мошенничеств под вымышленным именем и «выдававший себя за гражданина Форххайма [и] советника Кольмутца», в итоге был за свою ложь обезглавлен[64]. Кража доброго имени — как в случае пресловутого фальсификатора Габриэля Вольфа — угрожала основам мировоззрения Шмидта больше, чем кража денег или имущества. Когда он пишет о дочери ткача Марии Кордуле Хуннерин, обезглавленной за свои преступления, то в центр внимания ставит не внушительные масштабы ее краж у бывших мастеров, а позорное и скандальное мошенничество:
…[она] поселилась в Альтдорфе с сыном производителя ткани из Швайнфурта, [и], выдавая себя за дочь хозяина трактира «Черный медведь» в Байройте, наняла экипаж, поехала в этот трактир со своим суженым и солдатской женой, наказала приготовить еду и питье, показав на старика в трактире и назвав его отцом, она затем вышла из трактира якобы для того, чтобы привести свою сестру, оставив остальных сидеть в трактире, и солдатская жена оказалась вынуждена заплатить 32 флорина[65].
Конечно, использование нескольких личин было присуще среде профессиональных воров, и эта практика еще более укрепляла их позорный статус. Практически каждый, с кем Франц сталкивался на протяжении своей карьеры, имел хотя бы один псевдоним, а часто и больше. Разбойник и наемник Линхард Кисветтер также был «известен как Линхарт Лубинг, Линхарт из Корнштатта, Мозельский Ленни и Больной Ленни»; другой молодой вор к 16-летнему возрасту уже имел пять псевдонимов. У честного человека, напротив, должна была быть лишь одна подлинная личность, поэтому Майстер Франц счел знаком истинного раскаяния то, что Фриц Мустерер (он же Маленький Фрици, он же Улитка) «впервые произнес свое настоящее имя перед тем, как его вывели к виселице, а раньше он был известен как Георг Штенгель из Баххаузена, вор и разбойник». Спутницы грабителей и других профессиональных преступников были также известны под несколькими псевдонимами, иногда меняя их с каждым новым мужчиной. «Шлюха-воровка» Анна Грешлин (известная также как Прыткая Баба) призналась Францу, что три года назад она «назвала себя Маргаритой Шоберин», взяв фамилию своего тогдашнего супруга Георга Шобера (а также сменив имя)[66].

Клевета, еще одна форма кражи репутации, вызывала не меньший эмоциональный отклик у чувствительного к вопросам статуса палача, который сам страдал от злых сплетен и предрассудков. Многие из современников Франца разделяли эту точку зрения, считая удар по доброму имени более тяжелым, чем ранение тела. Бастиан Грюбель (он же Шлак) «много украл и, кроме того, при-знался в 20 убийствах», но что больше всего возмущает Шмидта в его рассказе, так это то, что он оклеветал своего недруга, утверждая, что тот был соучастником, и спровоцировал арест и пытки невиновного человека. Еще большее отторжение у Франца, по всей видимости, вызвал поступок Фридриха Штиглера, помощника бывшего палача. Он «выдвинул обвинения против жен некоторых горожан, что они являются ведьмами… и обвинения его были заведомо ложными». За это серьезное преступление Штиглер и был в конце концов обезглавлен Францем Шмидтом, испытывавшим к нему глубокую неприязнь. Хорошо зная, какие душевные муки вызывает клевета в твой адрес, Шмидт выносит особенно суровое суждение о покушавшемся на изнасилование Валентине Зундермане, который злонамеренно лжесвидетельствовал о том, что хозяйка дома «имела распутные отношения… с несколькими подмастерьями»; зато неожиданное сочувствие Франц выражает опытному вору Георгу Метцеле, который «томился в тюрьме три четверти года, потому что мальчик, девятилетний брат его шлюхи, обвинил его в пяти убийствах… но ничего такого не было»[67].
Честь могла быть дарована или отозвана людьми, облеченными властью, людьми, которые бывали капризными или жестокими.
Честность, а значит репутация, представляла собой акт самоопределения. Отказавшись от кастового фатализма, присущего большинству его современников, и взяв курс на прямые действия, которые, он надеялся, вернут почетный статус, Франц Шмидт невольно стал придерживаться более современной концепции идентичности. Это был поразительно гуманистический подход для малограмотного самоучки.
Сопутствующие ему размышления о человеческой природе и свободной воле имели много общего с ключевыми идеями величайших умов того времени, несмотря на их грубую и неумелую форму выражения. Для Франца тем не менее философские спекуляции были вторичны по отношению к его простой практической цели, и в этом смысле создание репутации честного человека было неоспоримым приоритетом.
Примечания
30. William Ian Miller, Humiliation: And Other Essays on Honor, Social Discomfort, and Violence (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993), 16.
31. FSJ Dec 16 1594; Jun 21 1593.
32. FSJ Nov 10 1596; Jan 12 1583.
33. FSJ Aug 16 1580.
34. FSJ Jan 4 1582; Jul 24 1585; Oct 5 1597.
35. FSJ Jul 10 1593; and see, e.g., Dec 23 1605.
36. FSJ Oct 11 1593; Feb 9 1598; Jul 12 1614.
37. FSJ May 12 1584.
38. Knapp, Kriminalrecht, 100. Для более полной информации см.: Wilhelm Fürst, “Der Prozess gegen Nikolaus von Gülchen, Ratskonsulenten und Advokaten zu Nürnberg, 1605,” MVGN 20 (1913): 139ff.
39. FSJ Dec 23 1605.
40. FSJ Apr 10 1578; Aug 12 1578; 1576.
41. FSJ Apr 15 1578; 1576; Dec 22 1586; Jun 1 1587; Feb 18 1585; May 29 1582. See also Nov 17 1582; Sep 12 1583.
42. FSJ Mar 6 1578; Jan 26 1580; Aug 10 1581; Jul 17 1582, Jun 8 1587; Jul 20 1587; Mar 5 1612.
43. ASB 210: 74vff., 112 r; ASB 210: 106r — v. См. также: Norbert Schindler, “Th e World of Nicknames: On the Logic of Popular Nomenclature,” in Rebellion, Community, and Custom in Early Modern Germany, trans. Pamela E. Selwyn (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002), особенно 57–62; а еще F. Bock, “Nürnberger Spitzname von 1200 bis 1800,” MVGN 45 (1954): 1–147, и Bock, “Nürnberger Spitzname von 1200 bis 1800— Nachlese,” MVGN 49 (1959): 1–33. Те же самые принципы именования очевидны в современной Англии: Paul Griffiths, Lost Londons: Change, Crime, and Control in the Capital City, 1550–1660 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008), 179–92.
44. JHJ 39v.
45. FSJ Jul 19 1614; Jun 22 1616; Sep 16 1580; Aug 4 1612; Aug 23 1594; Nov 21 1589; Aug 16 1587; Apr 30 1596; Jul 4 and Jul 7 1584.
46. Шмидт часто упоминает о наказаниях в других местах во Франконии, описание которых предполагает знакомство с ними не только по устным сообщениям: например, он характеризует одного осужденного вора как «Ганса Вебера из Нойенштадта… которого я видел выпоротым и изгнанным из Нойенкирхена десять лет назад» (FSJ Aug 4 1586). См. также: Jan 29 1583; Feb 9 1585; Jun 20 1588; Nov 6 1588; Jan 15 1594; Mar 6 1604.
47. FSJ May 29 1582; Nov 17 1582; Sep 12 1583; Dec 4 1583; Jan 9 1581; Jul 23 1583. См. также про стрелка Георга Майра, изгнанного из города за воровство (Aug 11 1586); and Nov 18 1589; Mar 3 1597; Aug 16 1597; May 2 1605; Feb 10 1609; Dec 15 1611. Подробнее о частом наказании таких сотрудников см.: Bendlage, Henkers Hertzbruder, 165–201, 226–33.
48. FSJ Mar 3 1597; Aug 16 1597; May 25 1591.
49. FSJ Feb 10 1596; Mar 24 1590.
50. Griffiths, Lost Londons, 138; см. также: 196ff . О современных английских терминах для мужчин с дурной репутацией.
51. FSJ May 21 1611; Nov 24 1585.
52. FSJ May 24 1580; Apr 15 1581; Dec 20 1582; Nov 19 1584; Aug 14 1584; Mar 16 1585; Nov 17 1586; Nov 21 1586; Jul 14 1593; Jul 26 1593; Oct 9 1593; Nov 10 1597; Dec 14 1601; Mar 3 1604; Feb 12 1605; Nov 11 1615; Dec 8 1615. См. также о телесных наказаниях записи от: Sep 8 1590; Jan 18 1588; Dec 9 1600; Apr 21 1601; Jan 27 1586.
53. FSJ Oct 9 1578; Oct 15 1579; Oct 31 1579; Oct 20 1580; Jan 9 1581; Jan 31 1581; Feb 7 1581; Feb 21 1581; May 6 1581; Sep 26 1581; Nov 25 1581; Dec 20 1582; Jan 10 1583; Jan 11 1583; Jul 15 1583; Aug 29 1583; Sep 4 1583; Nov 26 1583.
54. FSJ Oct 20 1580; Jan 10 1583; Jan 31 1581; Apr 2 1589; Jan 2 1588; Jan 18 1588. See also May 5 1590; Jun 11 1594; Jan 3 1595; Jun 8 1596.
55. Об общих криминальных паттернах, касающихся женской преступности и казней, см.: Rublack, Crimes of Women; Otto Ulbricht, ed., Von Huren und Rabenmüttern: Weibliche Kriminalität in der frühen Neuzeit (Vienna, Cologne, and Weimar: Böhlau, 1995); Joel F. Harrington, Reordering Marriage and Society in Reformation Germany (Cambridge, UK, and New York: Cambridge University Press, 1995), 228–40; и Schwerhoff, Köln im Kreuzverhör, 178–79.
56. FSJ Feb 9 1581; Mar 27 1587; Jan 29 1599.
57. FSJ Jul 7 1584.
58. FSJ Nov 6 1610; Jul 19 1588. См. также: Laura Gowing, Domestic Dangers: Women, Words, and Sex in Early Modern London (Oxford, UK: Oxford University Press, 1996).
59. FSJ Jul 3 1593; Dec 4 1599; May 7 1603; Mar 9 1609.
60. FSJ Jul 20 1587; Sep 15 1604.
61. Ср. отчеты о ежегодной дани, требуемой от евреев Хофа, и частые взломы еврейских домов, после которых в них оставляли кусочки свинины. Dietlein, Chronik der Stadt Hof, 267–68; FSJ Sep 23 1590; Aug 3 1598; Oct 26 1602.
62. FSJ Sep 23 1590; Aug 25 1592; Jul 10 1592; and Jul 10 1593.
63. По вопросу о текучести идентичности раннего Нового времени см.: Земон Девис, Натали. Возвращение Мартина Герра (М.: Прогресс, 1990), и Valentin Groebner, Who Are You? Identifi cation, Deception, and Surveillance in Early Modern Europe, trans. Mark Kyburz and John Peck (Cambridge, MA: Zone, 2007).
64. FSJ Dec 2 1613; see also Jul 3 1593; Jul 12 1614.
65. FSJ Jan 23 1610.





